
Памяти
нашего друга посвящается…
(базовая
версия 2000г. с добавлениями 2001-2004гг.)
НАУЧНЫЙ
ПОДХОД В РАЗМЫШЛЕНИЯХ О НИЩЕТЕ
РОССИЙСКОЙ
НАУКИ
(отдельные мысли, рожденные в процессе длительных дружественных дискуссий между авторами по поводу создания Фонда)
Иллюстрации
– Д.Банников
- - А что такое географ?
- - Это ученый, который знает, где находятся моря, реки, города, горы и пустыни.
- - Как интересно! – сказал Маленький принц. – Вот это настоящее дело! … Ваша планета очень красивая. А океаны у Вас есть?
- - Этого я не знаю, - сказал географ.
- - О-о… - разочарованно протянул Маленький принц. – А горы есть?
- - И этого я тоже не знаю.
- - Но ведь Вы же географ!
- - Вот именно, - сказал старик. – Я географ, а не путешественник….
(Антуан де Сент-Экзюпери)
Замечательная
фраза была в статье академика М.В.Алфимова «РАН
и РФФИ – разными путями к единой цели» (Вестник
РФФИ, №1, март 1999): «Давно и четко подмечено,
что все последние рассуждения о будущем
российской науки сводятся, по сути, к
рассуждениям, заклинаниям и молитвам о
спасении российской науки». Печальная
фраза. Мы теряем науку
в нашей стране. Пустеют институты и
уезжают ученые. Уходят в торговлю и бизнес
молодые аспиранты и студенты. Заполняются
газеты, журналы и экраны телевизоров
всевозможными астрологами, экстрасенсами,
гадалками, ”пророками” и знахарями. Но
самое поразительное в том, что
интеллектуальная элита общества, самая
образованная его часть (ученые), просит и
кричит о помощи. Кого просят? Какая помощь
может к ним прийти и откуда? И что же
остается тогда делать другим, простым людям,
не обладающим способностью тонко
анализировать, предсказывать, просчитывать
и предугадывать все возможные варианты,
равно как и выбирать наиболее оптимальные
модели поведения? Что им-то остается делать?
Любой
ученый, любого ранга, если не будет кривить
душой, знает, на самом деле, к чему сводятся
эти актуальные и справедливые, казалось бы,
на первый взгляд, но реально далеко не
бескорыстные и бесхитростные заклинания.
Давайте говорить прямо. Они сводятся к
деньгам. Дайте денег и появятся идеи,
теории, технологии, патенты, диссертации,
лаборатории, центры и институты. Причем
любые. Все зависит лишь от количества и
скорости поступления средств. Желательно в
валюте. Спасения, на самом деле, ищет не
наука российская. Таблица Менделеева,
теорема Котельникова, теория рефлексов
Павлова, геометрия Лобачевского или
эффекты Лосева, Лебедева и Вавилова-Черенкова,
открытые и созданные выдающимися нашими
соотечественниками, между прочим, не в
самые сытые и спокойные времена нашей
истории, не нуждаются ни в каком спасении.
Они вообще ни в чем не нуждаются. Они уже
давно - система взглядов и знаний
Цивилизации. Это и есть Наука. А спасения
просят конкретные живые люди, ученые,
которые, как правило (не все, но большинство),
на всех уровнях постоянно уверяют и себя, и
других, что тот или иной научный проект, а
практически каждый проект, написанный
собственноручно (свой), открывает всему
миру и любому инвестору несметные
богатства и волшебные перспективы.
И
ходят по длинным коридорам власти
директора-академики НИИ, КБ, ВУЗов, и просят
денег на спасение своей «научной
метрополии». И бегают по кабинетам
директоров этих да по фондам разным завлабы-доктора
и кандидаты наук, и вымаливают денег еще,
хотя бы, лет на 5 жизни их научной группы или
лаборатории. И шныряют и там и тут
энтузиасты-одиночки, да шарлатаны от науки
всякие, убеждая всех и вся, что открыли они
новую теорию эволюции, новый вид торсионно-квадрупольного
поля или изобрели заново вечный двигатель,
только не тепловой (т.к. это запрещено
законами термодинамики), а на основе вечной
энергии Космоса (что никто пока не запрещал
и вечную энергию Космоса не отвергал), и
поэтому надо их срочно профинансировать по
максимуму. И вроде и науки у всех разные, и
подходы самые-самые уникальные и
неповторимые, и перспективы на горизонте
необъятные, и институты «работают», и
лаборатории целые, тысячи умнейших людей
страны, а денег ни у кого нет. И цель у всех
этих поисков теперь осталась только одна –
деньги. Мольба о помощи. Финансовой. Нет.
Стоп. Еще одна мольба-заклинание
проскакивает между делом, то там, то тут, в
увязке с вопросами финансирования. Нет
молодежи. Разбежались все. Уезжают умные да
талантливые, молодые да средних лет ученые
из этих самых «уникальных в мире» научных
институтов и лабораторий. Бегут просто. Не
хотят, дескать, доводить идеи великие до их
внятного воплощения в стройную теорию или
данные эксперимента за те жалкие крохи
финансовых средств, что перепадают науке.
Поэтому срочно надо, мол, финансирование
науки увеличить в несколько раз и привлечь
в научные храмы подрастающую молодежь! Надо
распределение после ВУЗов восстановить,
надо запретить «утечку мозгов» и
оштрафовать всех тех, кто уезжает, или уехал
уже (пусть платят нам за образование
полученное, неважно какого качества оно
было). Надо госзаказ на все научные
разработки восстановить. Надо…
И
с самого начала, нам кажется,
что в этом вопросе постоянно что-то все
путается и логически не стыкуется. Самые
умные, молодые, талантливые и инициативные
вдруг разбежались ото всех разом в 1990-е годы?
Простите, а кто же тогда остался? Глупые,
бездарные и безинициативные пенсионеры?
Для кого и для чего тогда деньги
вымаливаются на «науку российскую»? Ну
хорошо… В России деньги, понятно,
практически закончились. Трудно найти
финансирование. Разграбили все. Фонды
сидят на голодном пайке. Бизнес не
вкладывает деньги в науку... Но, простите,
мы пока не ослепли. Мы
видим иномарки и дачи. Видим офисы и
шикарные особняки. Фуршеты, презентации и
форумы. Праздник обычного московского
бизнесмена в ресторане превышает по цене
средний годовой грант РФФИ. Миллионы
вкладываются в акции, облигации и
банковские депозиты в надежде получить
прибыль. И так далее. И вы будете утверждать,
что в стране нет денег? У бизнеса нет денег?
В банках нет денег? А может просто
государство и бизнес пока не были
ориентированы на науку, не верят российской
науке и не видят ее перспектив? Если
такой огромный потенциал в российской
науке и в наших научных проектах сегодня
сокрыт, как описывается в большинстве
заявок на финансирование, то неужели все
поголовно наши родные российские спонсоры,
олигархи, бизнесмены, меценаты, чиновники
от министерств и ведомств, градоначальники
и т.д. (перечислять можно долго) все полные
идиоты, что не видят этих сказочных
перспектив? Не понимают, что могут получить
прибыль в тысячи раз больше, чем от обычной
игры на бирже? Отказываются от такой
прибыли? Да не может быть так. Не верится нам.
Не стыкуется здесь…
Ладно,
это Россия. А все спонсоры мира, все
международные финансовые организации,
международные научные фонды, университеты
и институты США, Канады, Англии, Франции (перечислять
можно долго) тоже настолько глупы, что не
видят перспектив финансирования того или
иного «уникального» научного направления
или института в России? Почему они-то при
таких перспективах не взяли и не купили
себе ни один наш научный институт или
научный центр, как делают они это с заводами
нашими и с фабриками, с нефтяными вышками и
металлургическими комбинатами? Они все, что,
во всем мире круглые дураки?
«Если ты такой умный, то почему ты такой бедный?», - вспоминается избитая американская поговорка. И тут же вспоминается известный и извечный русский ответ: ГРАБЯТ! (душат, не дают, не пущают). Бог, царь, коммунисты, враги народа, немцы, демократы, новые русские, американцы, евреи, чиновники и кавказцы, наконец! Все грабят. И все душат. И в основном, почему-то, простых, умных и инициативных русских людей… Да не бывает так! Неужели это не очевидно? НЕ СТЫКУЕТСЯ ЗДЕСЬ! И уж ученым-то должно быть это ясно, как дважды два. С их-то способностью к логическому анализу и системному подходу! С их-то «рогами» и «копытами», как подмечено было давно уже в одной поучительной сказке про Тараканище.
Уже давно набила оскомину всем фраза, что нельзя спасти одну каюту в едином тонущем корабле. Как нельзя построить коммунизм в отдельно взятой стране или капитализм в отдельно взятой Москве. Наука неотделима от общества и от общественных процессов, происходящих в нем. И чтобы говорить о науке будущей, о ее проблемах и перспективах в России, надо хоть чуть-чуть, хоть один разок попытаться проанализировать наше общество не ради публикаций, диссертаций или каких-либо политических идеологий, а ради самих себя. Очень много у нас историков, социологов, экспертов, журналистов и политологов. И очень мало, как нам кажется, понимания процессов реальных. Давайте попробуем для себя, пусть упрощенно, бегло и непрофессионально (с точки зрения официальной истории), но откровенно и честно (для себя!) проанализировать, хотя бы прошедшие 100-150 лет в развитии России, за которые наша страна умудрилась пережить практически все мыслимые общественно-экономические формации, революции, войны и потрясения. Сумела построить Гулаг и первую атомную электростанцию, первой построить социализм после самого короткого в истории человечества капитализма, а затем первой же перейти от социализма к капитализму. Первой во всемирной истории запустить человека в космос и первой же в этой всемирной истории в конце того же XX века полностью разорить на уровне целого государства всю свою «передовую» науку и начать пытаться вводить в школах (с лучшим-то в мире образованием!) основы закона Божьего.
Мы не будем никого винить. Мы не будем подробно копаться в разных мелочах и судьбах (мыслях, поступках) отдельных личностей в истории. Мы выхватим здесь лишь отдельные куски, грубые мазки и срезы общества, наиболее характерные с нашей точки зрения, с целью систематизировать массив исторических фактов в плоскости нашей тематики спасения и нищеты российской науки. Мы хотим увидеть логику происходящего, перевести эту логику из месива эмпирических данных в некое теоретическое социологическое построение и уже на основе него, как и полагается в классической науке, сделать определенные выводы и предугадать последствия. Мы не пишем и не рассуждаем о политике. Мы неумело и ляповато пытаемся говорить о социологии (наука такая есть) и российском социуме ученых.
Отступление
первое. Историческое.
Давайте
говорить честно. Факт развала СССР оказался
наукой нашей (великой!) абсолютно не
предусмотренным и не предсказанным. А беды
нашей науки, почему-то, принято отсчитывать
именно от этого рубежа. Это первая
нестыковка, на которую натыкаешься сразу же
по пути рассуждений. Почему наши социологи,
экономисты и политологи времен СССР 1960-1980-х
годов, работая в НИИ и на кафедрах ВУЗов,
печатая статьи и защищая диссертации, читая
лекции студентам и оценивая их знания,
получая звания академиков и персональные
пенсии (и т.д. и т.п.), не смогли предсказать
факта надвигающегося развала СССР? Не
потому ли, что у нас была «самая лучшая» в
мире «наука»? Почему все они практически
никогда не задаются вопросом, как реально
выглядит механизм государственного
устройства, без привязки к идеологии той
или иной партии? Как он работает, как он
менялся раньше и может ли меняться в
будущем? Как живут люди, не входящие во
власть? Какие настроения и мотивы движут их
поступками в массе своей? Какие есть
тенденции во всем этом и закономерности?
Какие есть пласты и слои общества,
объединяемые общими ценностями и идеями, и
что это за ценности и идеи хотя бы в разрезе
взгляда на сообщество ученых. Может тогда
мы хоть как-то сумеем понять и
проанализировать происходящее?
Те,
кто говорит, что история любой страны
связана с историей развития классов и
производительных сил - правы. Те, кто
говорит, что в истории нет закономерностей,
и ее делают личности - тоже правы. Те, кто
утверждает, что история России полностью
определялась и диктовалась враждебным
международным окружением (монголами,
татарами, немцами, сионистами, американцами,
НАТО и пр.) – правы. Потому что этим можно
объяснить все, если захотеть. Потому что из
этого ничего дальше не следует и никаких
конкретных шагов делать не нужно. Потому
что так легче и проще рассуждать. Они,
поэтому, всегда правы, но не во всем…
Обратимся
к одной из первых научных теорий об
устройстве общества – марксизму. Он
выделял классы и группы людей: класс
буржуазии, классы пролетариата и
крестьянства (позднее их пытались
объединить в один «рабочий» класс с
вычленением неких трутней – зажиточных
крестьян и штрейкбрехеров, которые не пили
и гуляли, а вкалывали и сохраняли), а также
некоторую обособленную группу, или
социальную прослойку - интеллигенцию.
С последней, правда, всегда была путаница.
Прослойка между кем и чем? Между
крестьянином и рабочим, рабочим и
капиталистом? А если рабочий или капиталист
достаточно образован и интеллигентен? Если
интеллигент по выходным работает
крестьянином на своем подсобном участке за
городом, тогда что? Теория давала где-то
сбои, но жили по теории: отстреливали
буржуазию и помещиков, душили середняков,
растили неимущий рабочий класс и … опять
путались с интеллигенцией, особенно с
творческой (или научной). Ей даже имя такое
специально придумали. Чтобы отличать,
видимо, от нетворческой и антинаучной. Но, в
общем, отстреливали и изгоняли,
прикармливали или просто не трогали. В
зависимости от настроения и случайности
ситуации. И при этом в стране планировали,
отчитывались и учитывали. Верстали и
компоновали. Писали рапорты, законы,
постановления и докладные записки.
Согласовывали. Выбивали и пробивали.
Хлопотали и ходатайствовали, в том числе и о
себе тоже. Особенно, если госдача, там, или
паёк какой
небольшой… Угадываете? Нет, не партия это,
ошибаетесь, если в целом говорить про
явление. В партии были и рабочие, и
крестьяне, и представители интеллигенции. В
партии были все. Не в партии дело. Было, явно
было и еще что-то, безликое и до боли
знакомое, разрастающееся как опухоль в
организме и пожирающее всех и вся. И в то же
время абсолютно неуловимое такое,
классиками марксизма и социологии
практически не отмеченное, так… нечто
стороннее на фоне великих побед
революционного пролетариата. Какое-то
нечто. И откуда оно такое взялось? Ведь,
только рабочие и крестьяне! Ах, да-да.
Прослойка там еще между ними… Мы читаем
Пикуля и Карамзина, газетные публикации,
учебники, тома и монографии по истории и вот-вот,
кажется, начнем понимать суть дела, но нет.
Тщетно. Не хватает для полноты какого-то
маленького кирпичика, ключевого зернышка. И
система взглядов рассыпается, остается
туманной и незавершенной. И на первый
взгляд, кажется, что эти вопросы далеки от
темы науки, разве что только исторической,
но это только на первый взгляд.
Как
осуществлял до революции свою «абсолютную»
власть Царь? Неужели он один во всем
разбирался до мелочей и управлялся с такой
огромной страной от Польши до Владивостока?
Явно нет. И партий политических тогда
никаких не было. Значит, от его имени
действовал кто-то другой. Или, вернее,
другие. (Потянулась-таки ниточка
рассуждений). Значит, была какая-то
технология рождения, воспитания, отбора и
назначения этих «других». Какая? Кто
придумал эту технологию? В каком
многотомном научном труде описал? Если даже
он (Царь) все сам придумывал, то кто-то же еще
писал распоряжения и переписывал, приносил
на подпись и раздавал другим для исполнения.
Сообщал новости и интерпретировал события.
Излагал мысли и строил проекты на бумаге.
Советовал и направлял. Узнавал и
докапывался до сути. Поощрял и наказывал.
Как вообще влияют люди окружения (спецслужбы,
друзья, любовницы, назначенцы и выдвиженцы)
на систему власти в стране? И кто такие эти
люди, которые, кстати, распределяют финансы
(в том числе и на науку) и квоты, лицензируют
и проверяют, пишут законы и сами же их не
исполняют, вводят цензуру и отменяют
генетику, ездят в шикарных каретах и
абсолютно для нас серы и безлики как
личности? Кто они такие? Рабочие или
крестьяне? Есть ли у них свой, скажем, Ньютон
или Карл Маркс? Есть ли своя теория
поведения, своя история развития, свои
собственные незыблемые законы и доказанные
теоремы? Как существует из столетий в
столетия такая сложнейшая
многопараметрическая и динамическая
система без детального просчета и анализа
всех возможных причин и следствий? Без
тысяч написанных диссертаций и монографий?
Безо всяких формул и модельных расчетов.
Существует, ведь, и явно не бедствует, в
отличие от ученых!

Если
покопаться в своей памяти, то любой
сотрудник отраслевого НИИ того времени или
системы АН СССР может вспомнить уникальную
процедуру в конце года или в конце срока
действия хозяйственного договора.
Процедуру «выработки» денег. Срочно
надо было потратить неиспользованное за
время работы. Иначе в следующий раз дадут
меньше. И срочно закупалось все, что угодно,
лишь бы потратить деньги, без особого
разбора. И это в то самое время, когда мы
говорим, что у нас была и процветала наука.
Была. Космос, ядерная физика, много еще чего.
Стране нужна была тяжелая промышленность и
оборонный «комплекс». А для их создания
нужны были технологии, теории и
исследования. И они проводились. Но вот
какой ценой, если задуматься? Миллиарды
кидались в «оборонку», без штанов оставили
страну, на карточки почти всю в конце концов
посадили. А где была наука Экономика? Где
Социология? Где Менеджмент и здравый смысл
в целом? Почему они молчали? Предложите
бизнесмену сегодня «выработать» его деньги!
Подсуньте ему такой проект… А тогда это
было возможно. Задумались почему? Деньги-то
были бюджетные, общественные, ничьи по сути,
а приобретало себе собственность ведомство.
Оно вырабатывало чужие деньги в свою пользу.
И это был своеобразный «бизнес» советских
чиновников и начальников, если
рассматривать их как равноправные и
отдельные элементы существовавшей тогда
феодально-социалистической системы. И они с
удовольствием его делали. Искали договора,
строили планы, завышали цены, поворачивали
реки, т.е. всеми силами растили свое
ведомство и свое личное могущество, получая
имущество, государственные премии и ордена.
Отчитывались же, как правило, бумажками -
объемами, освоениями, валовыми
показателями. И ведомство росло! К концу 80-х
практически все свободные ресурсы «социалистического»
лагеря, кроме личных сбережений граждан,
были утилизированы по ведомствам.
Оставались лишь сбережения людей.
Наступала их очередь… Наступал 1990 год.
Отступление
второе. Тоже историческое.
Поразительные
два лозунга соседствовали всегда в нашей
стране рядом. «Учиться, учиться и учиться» и
«Кто был ничем, тот станет всем». Иногда,
перелистывая историю, кажется, что эти два
лозунга преследуют нас и сейчас, как злой
рок, играя в чехарду. Мы все знаем понятие
русской дореволюционной интеллигенции.
Читали про гимназии и лицеи в
дореволюционной России, русское офицерство,
дворянство и духовенство. Слышали о
благородных Декабристах и Народовольцах,
штудировали Пушкина, Льва Толстого,
Тургенева и Достоевского. Даже заучивали
наизусть. И все помним, какой безграмотной,
нищей и бездуховной стала в одночасье
Россия после революции 1917-го. Как это могло
быть?
Аналогия
нашего времени: Мы хорошо знаем про систему
всеобщего бесплатного и даже обязательного
десятилетнего образования в СССР. Лучшего,
как нам говорили, в мире. Бесплатные ВУЗы,
ПТУ, техникумы, школы, академии и
университеты. Благородное и доступное всем
советское кино, театры, книги. Пионерская
организация и ВЛКСМ, партия и профсоюзы.
Самая читающая и грамотная страна в мире! И
все сегодня, в конце 1990-х, наблюдаем по всей
стране бандитские разборки, растопыренные
пальцы, наркотики, неграмотных и грязных
гастарбайтеров, вонючих бомжей, брошенных
родителями детей и широкоплечих омоновцев
с черными шерстяными головами, вид которых,
а порой и грубая матерная ругань пугают
мирных граждан пуще бандитов или чеченцев.
Не вяжется это в сознании. Не стыкуется.
Куда делось лучшее в мире и всеобщее наше
образование у народа, а?… А, может и не было
его, а? … Может это
миф?
Нам
могут возразить, дескать, что это вы?
Западные школьники или студенты никогда не
могли сравниться с нашими ребятами по
уровню знаний ни в математике, ни в физике,
ни в химии. Не могли. Это правда, но не вся. Не
могли в среднем. Знания по физике таких
студентов как П.Дирак, В.Паули, В.Гейзенберг,
Э.Шредингер или М.Планк (физики мирового
уровня) почему-то никогда не сравнивают со
знаниями наших Вани Иванова, Пети Петрова
или Коли Сидорова. Сравнивают средних там с
лучшими здесь. И именно в математике, физике
и химии. Науках сугубо технических, близких
к оборонке. Да, у нас очень сильные были и
остались еще некоторые естественнонаучные
школы и знания. Но есть и другие дисциплины
и области науки, более гуманитарные, более
приземленные и социальные: история,
психология, социология, биология,
международное право, теория управления (в
бизнесе и государстве), педагогика,
политология, медицина, наконец. Это тоже
науки. Были они у нас лучшие в мире? Была у
нас лучшая в мире, скажем, наука Экономика? А
История? А Педагогика и Социология? Надо нам
здесь что-то спасать? Мы сами себе морочим
голову! Сами создаем мифы и молимся потом на
них. Кричим, что демократы ограбили всю
страну, поставили российскую науку на грань
выживания. Чубайс приватизировал всю
Россию. Как же могут 3-5 человек разрушить
целый государственный механизм, если он
работает исправно и четко? Если он был
эффективен? Если все были счастливы? Если
охранялся он сотнями тысяч благородных
офицеров, генералов, солдат и секретных
агентов спецслужб? Как это могло случиться?
Давайте
не кривить душой – подавляющее большинство
ученых, людей с высшим образованием, а также
офицеров, педагогов, врачей, архитекторов и
т.д. были ЗА перестройку и ЗА перемены. Это
трудами ученых, журналистов, историков,
публицистов и читающих их физиков, учителей,
врачей и сотрудников силовых структур,
словом, трудами самой образованной части
общества и создавалось общественное мнение
о необходимости перемен. Пустые прилавки
магазинов и обязательный 8-ми часовой
рабочий день, проводимый научной
интеллигенцией по большей части в те годы в
курилках и буфетах НИИ, где можно было
обсудить любые тонкости повседневной жизни
и не думать особенно о своей заработной
плате и хлебе насущном (первая была
неизменна, как мировая константа, и не
зависела от результатов работы, а второй
еще оставался на скудных прилавках
магазинов, хотя и пропадал периодически из
поля зрения), - все это лишь ускоряло
объективно-субъективный процесс. А
приезжающие из-за рубежа счастливчики (кстати,
в основном, это были те самые выдвиженцы и
назначенцы, тоже, между прочим, с высшим
образованием) привозили рассказы о
шикарных заграничных отелях и роскошных «тамошних»
магазинах. О свободе творчества ученых и об
их астрономических заработках за рубежом,
на которые и машину купить можно, и
видеомагнитофон, и, даже, со временем,
компьютер или частный дом. Было тогда что-то
романтическое в этом и возвышенное. Все
начинали мечтать жить как «там». Каждый м.н.с.
мыслил себя «там» известным профессором,
произносящим тронную речь при вступлении
на должность почетного руководителя
лаборатории или института. Причем под этим
«там» понималась развитая Европа (5-10 стран),
Япония или Америка. В Заире или Ираке никто
из ученых жить и работать даже тогда не
мечтал и не хотел…. И… шли на митинги,
спорили и критиковали, убеждали и
отстаивали, слушали съезды и читали в
лабораториях толстые, затертые до дыр
журналы. Открывали кооперативы и малые
предприятия. Мечтали о международных
контрактах и собственных международных
патентах, которые можно продавать на
международных рынках. Никто тогда, в первые
годы перемен и последние годы СССР, не
кричал о спасении российской науки. Все
молили только об одном – дайте нам права и
свободу и мы сумеем себя и свои знания
реализовать. Но прошло время, совсем
немного времени и…. Оказалось все совсем не
так. Оказалось все в другом цвете. Всего
через несколько лет (5-10) мы уже во весь голос
кричим, что нас обманули, ограбили. Отняли
деньги и работу. Культуру. Даже у некоторых -
страну. Мы хорошие, но нас ограбили! Отняли у
народа «собственность»… Мы уже клянем и
коммунистов, и демократов, и бизнесменов
вместе взятых. И наглую, высокомерную
Америку, и зажравшихся «новых русских». И
все на свете. И уже не пытаемся найти
причину и осознать следствие, осознать
прошлое и заглянуть в будущее. Просто
кричим: «Дайте денег, спасите науку». Как
просто все стало. Как примитивно в
полностью образованной и самой «читающей»
стране мира. Как легко оказалось опять
обмануть образованную донельзя
интеллигенцию! “Мы все учились понемногу.
Чему-нибудь и как-нибудь…”.
Все
встало с ног на голову сегодня в нашей
стране, и не можем мы пока найти ответа. И
видим, да не понимаем, у кого сегодня в
стране уверенное и обеспеченное положение?
У того, кто учился и учился, как наказывали
родители и партийные функционеры, или у
кого-то другого? А у кого работа,
оплачиваемая сполна? А свобода творчества?
А возможность развития? Кто и как правит бал, что учителя, врачи, инженеры и ученые
стали уже практически полностью самыми
нищими и бесправными в собственной стране,
которой они дали (да-да, именно они) и
атомную индустрию, и космическую эпоху, и
культуру с образованием. В том числе и эти
самые демократические преобразования, и
понимание того, что любой беспартийный,
капитан дальнего плавания, комсомолец,
профсоюзный активист или сталевар тоже
может иметь собственный бизнес, свои
собственные права и свою недвижимость за
рубежом. Не вяжется все это, по большому
счету, со здравым смыслом. Не стыкуется. И
тянется уже наша ниточка дальше. И смутные
догадки начинают закрадываться в душу. И
приводят они нас в мир сказочный, где
однажды и на века родилось такое понятие,
как «Страна Дураков».
Отступление третье. Фольклорное.
«Инициатива
наказуема». Эта привычная, как воздух, фраза
храниться у нашего народа, как личное дело в
архиве подсознания. По мере необходимости
извлекается и используется, как что-то само
собой разумеющееся, как у сказки присказка.
Все русские народные сказки передают нам с
детства этот «мим». Нищие старик со
старухой, рухнувший в конце-концов теремок,
разбитое корыто, упавшее золотое яичко или
съеденный колобок – это реальная судьба
большинства в корне своем благих, но, по
сути, бездарных начинаний на Руси. Хотели,
видите ли, как лучше, а получилось….
Большинству людей известно, пожалуй, лишь
две сказки с более или менее благоприятным
исходом как результат упорного и
изнурительного труда – это “Репка” и
сказка про Кощея. Все остальные русские
сказки, как правило, учат не работать, а
сидеть и ждать чуда: когда печка подъедет,
или щука в колодце объявится. Или еще что…
Это впитывается с детства. И это тоже имеет
значение. Иванушка или Емеля, как правило, у
нас с приставкой “дурачок”.
Необразованный, такой, необученный. “Жил-был
крестьянин. У него было три сына: Федор,
Василий и младший Иван”. (“Сивка-Бурка”). “В
некотором царстве, в некотором государстве
жил в деревушке старик со старухою; у него
было три сына: два умных, а третий – дурак”.
(“Мудрая жена”). “Был крестьянин, имел три
сына…” (“Иван Репников”). Чем кончаются
все эти сказки про «дураков»? Он и будет в
конце сказки жить счастливо. Почему всегда
на Руси в сказках присутствуют нищие и
убогие старики со старухами? Почему не
научились они читать и писать за всю свою
долгую жизнь? Не построили к старости
добротный, хороший дом? Не заложили амбары?
Не сохранили молодежь, детей и внуков рядом?
Тогда, ведь, на Руси не раскулачивали… Эти
сказки читают всем. И это как «программа»
закладывается в «компьютер» к нам с детства.
Беда в том, что компьютер иногда дает сбои…
Есть
и другие сказки. Их знают меньше, и читают их
уже не во всех семьях. На самом деле, русских
народных сказок, видимо, более тысячи. Но
кто (кроме специалиста) сможет по памяти
пересчитать их хотя бы до 50 (это менее 5
процентов!). Попробуйте, коллеги ученые!
Ровно столько, сколько вы насчитаете,
остается в памяти у нас от многовековой
народной мудрости… “Жил-был Иван
Несчастный: куда не пойдет работать –
другим дают по рублю да по два, а ему все
двухгривенный…”. (“Доброе слово”). “Служил
солдат Богу да великому государю целых
двадцать пять лет, выслужил три сухаря и
пошел домой на родину…”. (“Солдат, черт и
смерть”). “Прослужил
солдат у царя три года, и царь за службу дал
ему три копейки. Ну, и пошел он домой…”. (“Богатый
солдат”). “Отслужил
солдат три войны, не выслужил и выеденного
яйца, и отпустили его вчистую…”. (“Неумойка”).
Знакомо-то все как, Господи! Как похоже это
на нашу жизнь и жизнь наших пенсионеров –
ударников и ветеранов социалистического
труда! Не дочитали мы, видимо, где-то.
Недоучили… Все на государство надеемся. А
знаете ли вы сказку: “Жил себе старик со
старухой, был у них сын по имени Федор.
Задумал старик отдать сына в науку…”? (“Хитрая
наука”).
Суть
же проблемы сказочной в том, куда идет
Иванушка в сказке, как он действует, на кого
рассчитывает и кого просит о помощи? В этом
суть проблемы. А идет он, между прочим, шаг
за шагом, медленно и упорно, через чащи и
горы, за тридевять земель, в тридевятое
царство на бой с Кощеем. На смертный бой, а
не за деньгами. Или в поле кладбищенское
Сивку-Бурку ловить (ночью на кладбище!), пока
старшие братья ленятся, развлекаются, да
капитал батюшкин проматывают. Или на
прорубь за водой. Не просит он помощи,
заметим. Не взывает о спасении. А идет он …
на работу! И работает. Упорно, в меру сил
своих и природных способностей, сам
работает, пока Щуку-то и не поймает.
Пробовала однажды бабушка просить у рыбки
одной сокровищ себе несметных, просто так
просить, ни за что, да и осталась со стариком
у разбитого корыта… Не читали разве? Не
учили?

-
Немного вина, пожалуйста…
-
Мм-м – сладкое…
Высокая,
узкая бутылка. Небольшой город со старыми,
добрыми обычаями. В старой части города –
серой готики собор. Остроконечный шпиль
прокалывает растянутое небо. «Не будете ли
вы добры, - весело щебечет экскурсовод, -
чуть вперед, вот, сюда, пожалуйста». «Пожалуйста,
пожалуйста», - зовут каблучки. «Здесь
немного удобнее. Здесь, пожалуйста», -
обозначает место для группы. Поднимает руку,
отставляет острый каблучок и после
очередного «пожалуйста» журчит что-то про
самый верх в направлении узкой, стильной
перчатки, где высоко-высоко на шпиле
развевается порванное небо: «…voilá!».
Кружится голова…
«Строительство
собора было начато почти триста лет назад.
Решение о строительстве приняли сами
граждане города. Об этом рассказывают
надписи на этом камне. Здесь. Пожалуйста…
Строительство было рассчитано на сто лет.
Были подсчитаны размеры строительства и
его стоимость. Предполагалось строить из
доходов городской казны, чтобы не
обременять горожан. Были сделаны все
расчеты по годам. К сожалению, войны
помешали выдержать намеченные сроки…
Строительство велось почти 130 лет, из
поколения в поколение. Тем, кто заложил
собор, не суждено было увидеть, как собор
поднялся над землей», - отстучали каблучки…
«Сегодня собор, хоть и травмирован временем,
но продолжает служить людям. Думаю, он
простоит еще не одно столетие»…
«…Из
века в век специальные люди отвечали за то,
чтобы в крепости всегда была вода, были
запасы пищи, оружия. Специальные люди из
числа граждан заботились…», - журчала чужая
речь. «…Вот так шел неприятель. Здесь в
крепость заходили крестьяне. Специальные
люди обеспечивали размещение крестьян, их
имущества, живности… Здесь хранились
запасы продовольствия. Нет-нет, эта для
пороха. Та? Нет! Та – для оружия. Это тайный
ход к пещере с водой. Когда ворота
закрывались, специальные люди….».
Башни,
ворота, камни, серая чужая архитектура.
Среди чужого – знакомые музейные цепи,
горшки, мечи да латы. Но музейная схожесть
была неполной – у каменных стен не
оказалось битых бутылок, а в самой
подходящей для этого башне почему-то не
пахло мочой. «Специальные люди заботились…»
- запало в голову.
Под
занавес у крепостного рва перчатки
символично скрестились на груди в
обстоятельном разъяснении, что «…император
проиграл Ватерлоо не из-за того, что в
последней кавалерийской атаке дорогу
преградил глубокий ров». «Нет, - она
перевела дыхание, – атака продолжилась
сразу после того, как ров заполнился
первыми всадниками».
«Он
проиграл, - она повысила голос, - потому что
эти первые были и его самыми лучшими
всадниками, последними лучшими…»
Такая
вот короткая и внезапно оборванная история.
Какой силы дух и тонкости ум замышляли
строительство, зная, что не дано им будет
увидеть результата труда своего через сто
лет? Что к концу строительства само имя его
не удержит уже чужая память? Ради славы или
денег было задумано и создано это творение?
Ради прибыли или дивидендов будущих
защищалось оно от неприятеля? Безусловно,
нет. Задумано и создано оно было ради людей
и ради самой жизни. И отстояли его тоже ради
жизни. Поэтому творение это и живет уже
много веков…
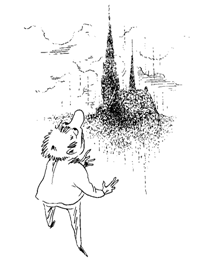
Осмелимся
высказать крамолу в связи со сказанным. Нам НЕ НАДО «спасать» и никогда уже НЕ СПАСТИ ту «науку», что
господствовала в СССР. Не систему знаний в
СССР, нет. А систему управления наукой,
систему организации науки и финансирования
этой науки. Нам НИКАК
НЕЛЬЗЯ это спасать.
Иначе мы опять начнем «вырабатывать деньги»
в пользу ведомства, пить чай в институтах по
10 раз на дню и опять упустим какой-нибудь «исторический
момент». Снова начнем вбухивать ресурсы в
создание какого-нибудь очередного
ведомственного монстра (НИИ «Фиктивной
индустрии», Министерства «Недотехнологий»
и т.п.) или дадим старт какой-нибудь
очередной утопической программе века (объединения
самолетостроения с кораблестроением, 15-ти
летнего всеобщего неполного образования,
всероссийского научного здравоохранения и
т.п.). Начнем отчитываться бумажками и
прожектами. Актами, протоколами,
процентовками и освоениями. Начнем снова
думать, что у нас самые, что ни на есть,
лучшие в мире и наука, и образование. И снова
начнем растить ведомства, забыв, что хотели
заниматься научными исследованиями.
Неужели это сегодня не очевидно? В нашей
российской суверенной действительности
сегодня финансироваться могут и должны
лишь отдельные конкретные ученые,
лаборатории и институты, а не мифическая
наука в целом. Только те, кто действительно
работает и показывает внятный результат.
Безусловно,
наука не может быть разрозненной, особенно
фундаментальная. Наука в государстве не
может существовать без планового
бюджетного финансирования. Настоящая,
серьезная наука. Но задумайтесь над
простейшим вопросом, а сколько реально
осталось у нас в том или ином научном
институте или лаборатории реально
работающих ученых? Сколько реально
уникальных проектов и новых идей мирового
уровня, а сколько всякого разного и
бесполезного старья и хлама? Мы хотим
сохранить ученых, их мысли и идеи, или
формально существующие лаборатории, НИИ,
научные центры и, в целом, все те же самые
ненасытные ВЕДОМСТВА? Если ученые убегают
из института, может и нет им там больше поля
для настоящей научной деятельности? Не
осталось там уже тех самых новых и
уникальных научных идей, не осталось даже
толики духа Творчества? А вдруг там их уже и
не было давно, лет, так скажем, 10-15, а все это
про науку великую нашу тоже миф? А? Просто
историческое отступление, тогда что?
Прежде
всего, надо начинать с себя. Честно. Если из
вашего института убежали все самые сильные,
умные и талантливые ученые, значит, они не
видели там для себя никакой дальнейшей
перспективы. Изнутри не видели, годами там
работая. Что уж говорить про внешних
спонсоров и чиновников от министерств? Если
честно, то о такой свободе творчества для
ученых, что сложилась в современной
ситуации в России, раньше даже и не мечтали.
Нет финансирования – нет и
соответствующего серьезного контроля.
Никто не заставляет даже каждый день
посещать свое основное рабочее место.
Выбирай любую тему, любое направление,
любой институт… Неужели все убежавшие
работали только из-за денег? Да, бывают
ситуации. Надо кормить семью. Для
исследований нужны приборы и реактивы.
Можно понять. Но надо досконально понимать
и другое. Если есть сильный коллектив, если
есть дух творчества, если есть научная
школа и настоящая новая научная идея – от
таких составляющих настоящие ученые НЕ
УБЕГАЮТ. Они будут искать способы работать
и будут работать. Сумеют использовать
имеющиеся ресурсы, включат смекалку,
переключатся на время от экспериментальных
исследований на теории. Убегут же из-за
денег единицы. Случайная составляющая
науки. А вот если убежали многие, поголовно
все убежали, сотни тысяч уже уехало, значит
нет не только денег, но и Коллектива, и
Творчества, и Идей, и Школы. Значит этого уже
к моменту побега практически и НЕ было.
Значит, задушили уже всех и вся к этому
моменту те наши самые «неуловимые». И бегут
российские ученые за рубеж не от новых
перемен или веяний, как обычно это принято
преподносить, не только от нехватки денег, а
и от старого хлама и плесени, от угрозы
снова быть посланными в колхозы на «картошку»,
от угрозы высиживать часами на
партсобраниях или партхозактивах, слушать
доморощенные политинформации, писать
кипами никому не нужные отчеты, служебные
записки и докладные, от отсутствия
перспектив творчества и профессионального
роста. От бестолковых начальников и
руководителей. А это фактор уже не только
финансовый. Это фактор управленческий,
организационный, идеологический или
человеческий, если хотите.

Задайте
себе вопрос, уважаемые коллеги, профессора,
ученые и преподаватели школ и вузов: «А
качественно ли мы учим школьников,
студентов или наших собственных детей, если
честно»? Мы сами соответствуем высокому
званию учителя или ученого, или в этой
суматохе дней и поисках заработка нам уже
не до студентов, учеников и сотрудников
лаборатории? И вы получите правильный ответ
на вопрос, откуда берутся недоученные
граждане в нашей полностью «образованной»
стране, откуда берутся чиновники, не
желающие больше финансировать науку.
Скольким двоечникам вы поставили тройки,
чтобы отвязаться? На сколько диссертаций
написали положительные отзывы, не прочитав
толком ни одной главы? А сколько «пропустили»
диссертаций, статей и дипломов, чтобы не
испортить отношения с тем-то и тем-то? А
сколько написано за деньги? И, главное, кому?
Уж не тому ли уникальному студенту или
аспиранту, кто и дальше собирается сидеть
всю жизнь в библиотеках, заниматься наукой
и писать свои формулы по ночам? Нет. Эти
работают сами. И денег у них, как правило,
нет. А за деньги плодятся чиновники. Вы
пишите статьи и диссертации за деньги
будущим чиновникам. Будущим чиновникам-ученым,
будущим чиновникам-врачам, будущим вашим
начальникам и тем, кто будет финансировать
науку. Можно понизить планку и поддержать
талантливого студента или аспиранта,
особенно в наше время. Трудно всем. Но надо
четко и ясно себе представлять, кого мы при
этом рождаем. Человека, который с нашей
помощью сможет идти дальше по пути Познания,
или того, кто сядет в кресло и будет затем
решать нашу собственную с вами судьбу? Мы
сами загоняем себя в порочный и
безвыходный круг. У нас не хватает на все
времени (или понимания?), и продукция наша
становится полуфабрикатом. И на следующем
витке хитросплетений истории она еще
большей деградацией сжимает вокруг нас
кольцо безысходности. Вы просите, умоляете
чиновников о финансировании науки, а они
себе мыслят иначе. Наука? Да знаю я, сам
ученый. Я знаю, как делается наука. Берут и
переписывают одно и то же по тысячу раз. Что
там сложного-то? Заплатил и закончил
институт. Сел, да написал диссертацию.
Подумаешь, ученый… Давно уже все новое открыто и переоткрыто
сотни раз. Бессмысленно на забавы ученых
тратить деньги. Проще купить на Западе
результаты, если будет что-то новое, чем
содержать ворох институтов в своей
собственной стране. «Страна дураков»...

А
в чем заключаются реальные национальные
особенности России? Влияют ли они на ответы
на поставленные вопросы? В чем особенность
русского характера? Можно ли эту
особенность использовать как-то в
контексте спасения российской науки? Как
это ни парадоксально, особенность русского
характера – в относительном историческом
достатке. Огромные территории, богатая и
достаточно плодородная земля, можно
срубить ели, построить дом, распахать поле,
добыть нефть. Это относительно просто. Не
надо толкаться на пятачке и бороться за
существование, как в Европе или Японии. И
остается еще много свободного времени
полежать на печи и помечтать о царевне-лягушке,
социальном обществе, богатстве или
всеобщем равенстве и братстве. Волею
Господа Бога (или Природы – как кому
нравится) русский человек в основной своей
массе – и н т р о в е р т.
В отличие от экстраверта Западного. Это наука.
Психология. Русский воспринимает жизнь
изнутри, через свое я. Менее рационально и
более одухотворенно. Никакому англичанину
вы не объясните слово совесть. Нет у них
такого понятия. У них слово совесть
означает понятие стыд. А для нас эти понятия
различны по смыслу и по окраске. Мы –
середина между Европой и Азией и нам нельзя
сдвинуться ни туда, ни сюда. Мы вряд ли
скатимся к клановой, религиозной и
средневековой общинности Востока (например,
чиновники не дадут, как люди с
незавершенным, но все же образованием). Но
мы и не сумеем, и не сможем существовать в
жестком рационализме и практицизме Запада,
где по большому счету правит бал чистоган.
Сегодня мы это уже начинаем понимать не
только по Марксу, но и на собственном
горьком опыте. Нам это просто чуждо.
Многовековые попытки прорубить окно,
догнать и перегнать только подтверждают
это. Жить же за счет одних природных
ресурсов можно, но не долго. Пока не
иссякнут ресурсы природные, и не рыкнет
трубопровод последней каплей нефти и газа.
Тут и конец нам. Замерзнем, на освоенных-то
сибирских наших просторах. И ни Америка нам
не поможет, ни Китай, ни Папа Римский,
появившийся на свет только тогда, когда
римляне эти человека распяли. Западный
экстравертный практицизм вполне позволяет
им одной рукой молиться, другой тугрики
загребать. Нам же это в массе своей чуждо. Мы
можем подняться, поднять или сохранить нашу
культуру, науку и образование только
осознав свою середину. Только осознав свою
интровертность и романтизм, заложенные в
нас всех на генетическом уровне.
Проверим
наши посылки. Почему революция победила в
1917-ом лишь в России, а в Германии и Австро-Венгрии
она провалилась? Почему в Польше, Чехии,
Венгрии последние революции 1990-х
не привели к тотальному обнищанию масс?
И почему образованные наши люди, выпускники
МГУ, МИФИ,
МВТУ, МФТИ и т.п. резко в конце 1980-х –
начале 1990-х кинулись в кооперативы, бизнес,
покупать акции, вкладывать деньги в банки и
финансовые пирамиды, а не остались в
лабораториях творить науку? Ровно также
кинулись, как 40-50 лет назад кидались в
авиацию, космос, теоретическую физику, на
БАМ. Можно объяснять это разными причинами,
но получатся разные объяснения. А можно
найти и одно (принцип наименьших затрат
Ферма). Да романтики мы! Интроверты! Мы не
думаем рационально о последствиях, как на
Западе. Любые социальные преобразования
романтичны сами по себе. Новая жизнь,
колхозы, коммуны, космос, акции,
приватизация, собственный бизнес – все это
романтика. Особенно, когда старый хлам уже
давно надоел и зарос паутиной. А почему все
получается как всегда? Да потому, что нас
всех еще плохо учили. Потому, что в
революциях мы видели и о них знали только
одно – захватить мосты и вокзалы. Заводы и
фабрики. Место в кресле, газовую трубу,
город Грозный, акции цементного завода или
что-то еще. А дальше? Дальше-то что? Ну
купили вы акции цементного завода, а все
станки и оборудование там давно уже
устарели и не работают, а рабочие давно
спились и даже и не ходят на завод. Ну и что
дальше? Ну получили вы кучу финансирования
для своей научной армии, а армия-то ваша
давно разбежалась. И что делать будем?
Липовые отчеты писать? Придумывать в
который раз фиктивные причины, почему вы не
выполнили проект в срок? И снова бегать и
искать финансирование, чтобы завершить
проект? Проблема же не только в том, чтобы
мосты и вокзалы. А в том, чтобы после этого
долго и упорно, очень упорно работать. Чтобы
собор заложить, да через 130 лет построить
обязательно! Чтобы продумать все до мелочей.
И это должно быть понято досконально.
Именно это дает ответ на вопрос, висящий над
нами как Домоклов Меч всю историю, в том
числе и над сегодняшней наукой: “Что делать?”.
Во-первых,
становится практически понятно, что
бессмысленно ученым звать и кричать о
помощи, надеясь, что придет Ланцелот и
избавит нас от Дракона. И Ланцелота нет,
особенно среди тех, кому адресованы крики, и
Дракон не где-то, а внутри нас. Во-вторых, даже
всей нашей стране бесполезно взывать о
помощи, пока мы не осознаем главного: мы
не сможем скопировать западную модель.
Нам надо создавать свою, с учетом наших
особенностей. Сегодняшний уровень развития
техники, технологий и производства для
удовлетворения потребностей, например,
бытовых, медицины, науки, образования в
стране требуется такой, что маленький
внутренний рынок не сможет его окупить и
сделать производство прибыльным.
Бесполезно поднимать производство везде и
вся. Оно просто не поднимется! Все ведущие
компании в мире достигают дешевизны
производства только за счет национальной
специализации и массовости производства,
за счет реализации товаров на всем мировом
рынке. А для этого нужны: межнациональное
разделение труда, колоссальные вложения,
экстравертный практицизм и многолетняя
культура сложившихся отношений в обществе,
которых в России, увы, нет. И постепенно
здесь не получится. Здесь, как в атомной
физике, есть лишь дискретные уровни энергий
электронов на орбите. И эффективно
развивать науку и производство можно
только скачками. С выходом на мировые рынки.
А вот их-то для нашей массовой продукции и
ширпотреба нам и не освоить. Место в мире
великой и ведущей страны бизнеса уже
сегодня занято. На все потенциально
обозримое будущее. Бюджет Америки
превышает триллион долларов. Нам, с нашими
копейками, разгильдяйством и долгами можно
даже не беспокоится. Занято место и ведущей,
скажем страны моды, кулинарии и парфюмерии.
Это Франция. Сельское хозяйство - Голландия.
Производство ширпотреба – Китай.
Производство электроники – Тайвань. И так
далее. Оксфорд, Сорбона, Кембридж… Шведская
Академия наук и Нобелевские премии. Заняты
многие места. И пытаться отвоевать их может
только сумасшедший (не дай Бог, силой оружия!).
“А
что же нам-то сегодня делать?”, - спросите вы.
Как поднимать производство и спасать науку?
Ответим: очень просто. На первых порах,
согласно нашему пониманию вопроса, –
убирать недообразованность в стране. Это
раз. Без этого ничего не получиться. Но
это процесс долгий, это как собор заложить,
да построить. А второе – надо попытаться
очиститься от старого хлама и выстроить
систему взаимоотношений в новой российской
науке в духе интровертности и романтизма.
Физики есть те же лирики, но от науки. Мы,
конечно, не можем дать точные рецепты и
продумать все с точностью до мелочей. Нас
слишком мало для этого. Но становится
очевидным, что науку должны вести за собой
ученые-романтики. Фундаментальную науку. И
финансы должны на такую науку распределять
тоже они. Чиновник же должен быть исключен
из этого процесса. Чиновники растят
ведомство, а это опять сказка про Белого
бычка. Для этого у нас уже нет ни ресурсов,
ни времени. Нам сегодня нужен совершенно
иной механизм. Прикладные исследования,
внедрение и производство, опытные образцы и
технологии, инновации и патенты должен
финансировать бизнес, а управлять этим
процессом должны экстравертные менеджеры
от бизнеса, умеющие точно просчитывать
прибыли, варианты, риски, составлять бизнес-планы
и бизнес-проекты. И для этого тоже нужен
соответствующий механизм. Называются все
такие механизмы во всем мире – Фонды.
Чем
сегодня занимается самая действенная и
тягловая сила науки – профессора и
руководители лабораторий? Они ищут деньги. Бегают по спонсорам,
пишут проекты и ведут переговоры. Они уже
занимаются наукой в свободное от этой
основной работы время. Чиновники им сказали:
“Денег нет, ищите сами”. И они ищут, верят и
ищут. Ищут и не находят. Почему? Да только по
тому, что не понимают, что не их это дело. Они
этого не умеют (не все, но большинство). Это
дело, как и любое другое, должен делать
специалист. Менеджер, если хотите,
предприниматель или тот самый чиновник, но
не в ранге начальника, а в ранге нанятого
наемного служащего. Со специальным к тому
же образованием и экстравертными
способностями к бизнесу. Обязательно
способностями, как в науке. Он должен искать
средства, а ученый должен писать формулы,
статьи, строить теории или проводить эксперимент.
Ученый должен быть романтиком.
С
другой стороны, поддержка государства,
создание фондов, “пробивание” Министерств
– это все хорошо. Это правильно. Но это –
как мосты и вокзалы.
Это только начальный этап. Собор надо
заложить, общие принципы на долгие годы
выработать… Сколько надо оказывать помощь
одной и той же лаборатории по одной и той же
тематике? А может лучше поставить дело так,
чтобы после поддержки, один, два раза она
уже не имела права получать поддержку, пока
не выдаст признанный в мире, новый и
существенный результат? А может
минимизировать затраты на проект, как
минимизируют издержки в бизнесе? Включить в
проект не тех, кто рядом, в своем институте,
а тех в стране, кто сделает это лучше,
быстрее и дешевле? Разбить проект на куски и
предложить их на конкурс? Не пытаться с
помощью грантов обеспечить себя на всю
жизнь, а составить такой научный проект,
чтобы был реальный новый результат, чтобы
после реализации проекта его результат
хоть частично мог бы быть передан в бизнес,
во внедрение, в производство? И на этом
этапе уже пытаться заработать основные
деньги.
А
задайте себе вопрос, финансировали бы вы
сами свое направление в науке, свой проект и
финансируете ли его реально из своего
кармана? Вкладываете свои личные
сбережения в оборудование лаборатории и
зарплату своих сотрудников? Верите сами-то
в свой конечный результат? Во сколько раз
можно реально снизить цену проекта, который
вы представляли бизнесу? У нас есть ответ.
Раза в 3! Многие типовые проекты за рубежом
оцениваются в 5-10 тысяч долларов. И это
нормально. А сколько, если честно, нами
пишется абсолютно бесперспективных
проектов, или проектов по старым тематикам,
уже выполненным? Кого вы пытаетесь обмануть?
Самих же себя по большому счету. Дайте друг
другу почитать ваши проекты. Заплатите по
1000 рублей (30$), купите коньяку бутылку,
наконец, своему другу и попросите
откровенную рецензию. Честную. Для себя. И
только после этого идите просить спонсора,
особенно частного. Это вам не министерство.
Он второй раз слушать не будет. А сколько мы,
наши уважаемые генералы от науки (академики,
профессора), из своего кармана личного, с
гонорара зарубежного, если честно,
доплатили своему аспиранту? Аспиранты,
кстати, это тоже видят. Гейзенберг, например,
великий Гейзенберг в тяжелые годы в
Германии (в 1930-е) продавал открытки на улице
и кормил себя и своих студентов. Он был
Ученый! А у нас некоторые ученые на
иномарках подкатывают к Академии наук или к
министерству (а еще пуще - к частному
спонсору!) и начинают втюхивать им, что на
науку денег у них нет. Ну не «страна дураков»?
Прежде
всего, прежде чем просить денег, надо
создать новую систему, пересчитать
оставшихся романтиков от науки и
оставшиеся таланты. Именно они должны
получать и распределять деньги в области
фундаментальных исследований. Государство
должно лишь выделять ежегодно общую сумму
на развитие науки. Например, в процентах от
ВВП, как и заложено сегодня в законах (да кто
ж их выполняет?). Три, пять, десять процентов
– можно обсуждать, но не это главное.
Главное – принцип. Все выделенные деньги в
процентах должны разделяться собственно на
исследования (оборудование, зарплата,
командировки) и на обслуживание
инфраструктуры науки (здания, свет, тепло).
Отдельный процент должен выделяться
независимо на содержание Академии наук, как
клуба высших экспертов, и на систему
научных журналов. При этом за
инфраструктуру науки должны отвечать
нанятые учеными чиновники, управленцы. Они
должны получать деньги на инфраструктуру,
содержать инфраструктуру и отвечать за нее.
Их зарплата должна напрямую зависеть от
состояния всей инфраструктуры, но не
зависеть от научных результатов ученых. Они
не должны отвечать за ученых и вмешиваться
в их научно-исследовательский процесс. Но
они должны быть подотчетны ученым, например,
Ученым советам институтов в плане
обеспечения института или лаборатории
инфраструктурой. Не справился,
проворовался – вон! Поставил дело грамотно,
обеспечил институт всем необходимым – живи
сытно и в достатке, вне зависимости от
результатов ученых, как и подобает
настоящему чиновнику.
Теперь
ученые. Деньги на исследования должны
поступать в Фонды, которые должны их
распределять по конкурсу с обязательным
рецензированием заявок несколькими
анонимными и независимыми экспертами из
числа ведущих ученых. Как это и делается
сегодня в РФФИ. С двумя, только, маленькими
оговорками. Первая: таких Фондов должно
быть несколько. Например, 10-15. С тем, чтобы не
превращать Фонд в монопольное ведомство,
чтобы обеспечить конкуренцию и
независимость от конкретных физических лиц.
И вторая: все поступающие заявки, а также
рецензии на них экспертов без указания их
фамилий должны быть в открытом доступе. Мы
не берем в расчет здесь секретные
исследования и материалы. Их
финансирование – удел специальных служб и
Министерства обороны. Мы говорим о
поисковых фундаментальных исследованиях
гражданского и общечеловеческого
назначения, результаты которых пока еще
туманны и не определены. Это все должно быть
открыто и гласно. Чтобы, с одной стороны, все
видели реальный уровень соседей и их
проектов, в том числе, кстати, и понимали,
где и кем был профинансирован «свой» проект,
по «блату», а, с другой стороны, понимали,
например, почему их собственный проект не
получил финансирования. Как можно скрывать
рецензию эксперта от авторов проекта, как
это делают сегодня в РФФИ? Даже журналы
высылают рецензии авторам на их статьи.
Авторы должны же понимать, полную глупость
они предлагают, или до финансирования они
не дотянули чуть-чуть и можно еще в
следующий раз что-то исправить или
доработать. Все должно быть гласно и
открыто. Сами эксперты тоже должны
отбираться Фондом гласно и открыто, из
числа известных ученых, путем тайного
рейтингового голосования. Благо интернет
сегодня позволяет делать это достаточно
легко. В идеале все ведущие ученые, доктора
наук и академики, должны быть привлечены к
экспертизе проектов в Фондах по их
специализации. Это должен быть массовый
процесс, с ротацией экспертов год от года,
чтобы снизить до минимума фактор
клановости и сговора. Замеченный в
нечистоплотности эксперт должен
исключаться из числа таковых навечно, без
права подавать собственные проекты.
Далее,
переходим к организации непосредственно
исследований. Финансирование проекта
должно обеспечивать его участникам полное
покрытие всех затрат, включая полноценную
зарплату. Два проекта получили – двойная
зарплата и т.д. Компромисса здесь быть не
может. Сегодняшние проекты РФФИ по объему
средств – смехотворны. Они не решают
проблему финансирования, а только создают
видимость процесса, помогая по минимуму его
участникам, или, даже, менее того. Проект
должен иметь полноценное и обоснованное
финансирование. А этого можно добиться
только естественной убылью слабых и
неконкурентных групп, лабораторий,
институтов. Под проект в институте должна
создаваться отдельная группа или
лаборатория решением Ученого Совета
института, выделяться имеющиеся
оборудование и помещения. Автоматически.
Возглавлять группу или лабораторию должен
руководитель проекта, подавший проект и
получивший финансирование, а не мифический
и не сменяемый завлаб. Оборудование,
купленное на деньги проекта, должно быть
навсегда закреплено за руководителем
проекта. Право подавать проекты должны
иметь все. Проекты должны приниматься к
рассмотрению и финансироваться Фондами
постоянно, круглый год. Руководитель
проекта должен иметь возможность полностью
распоряжаться финансами проекта, набирать
под проект любое количество штатных единиц.
Штатное расписание институтов, ставки,
оклады – это все не для серьезного
творчества. Ученые, не получившие
финансирования в какой-то период времени,
должны иметь возможность подключиться к
выполнению уже идущего другого проекта в
организации, получить от организации из ее
внутреннего фонда временную финансовую
поддержку (кстати, эти фонды легко можно
формировать из общих небольших отчислений
от всех проектов в организации), или, даже,
при отсутствии средств, должны иметь
возможность работать бесплатно, за идею, на
том оборудовании, что было получено и
создано в предыдущие их проекты. Должен
быть создан рынок ученых, временно не
занятых в проектах. У ученого должна быть
возможность работать в любой организации,
участвовать в любом проекте, куда его
пригласили на год, два, три, а затем
вернуться назад, не получая никакого
специального разрешения отдела кадров или
директора (чиновника) института. Решать все
такие вопросы должен Ученый совет. Если
ученый, например, преподаватель ВУЗа или
врач занят еще и другим лечебным или
учебным процессом, за это он должен
получать отдельную и не зависимую от
научного творчества зарплату. Занятие
научным творчеством должно быть
ДОБРОВОЛЬНЫМ, не обязательно приносящим
ученому доход.
Теперь
Академия наук в России и ее роль. Академия
наук должна быть единой и единственной в
нашей стране. С разными отделениями по
разным дисциплинам. Не может быть академий
отдельно по физико-математическим наукам,
отдельно по медицинским или историческим.
Это глупость. Иначе появятся архитектурные
науки, военные науки, спортивные науки и т.д.
Появится бизнес в создании академий (как
уже и появился). Академия наук должна
рецензировать наиболее важные и
амбициозные проекты, издавать журналы,
заниматься просвещением и защитой
интересов ученых, контролировать работу
фондов. Академия наук, как таковая, не
должна распределять финансирование. Только
на уникальные объекты, типа заповедников,
научных музеев, обсерваторий, океанариумов
и т.п. И то, желательно, через Фонды. А самое
главное - Академия наук должна давать
квалификационную оценку по выполненным
проектам и их участникам. Присваивать
ученые степени и звания. Рекомендовать к
финансированию тот или иной научный проект.
Прогнозировать новые научные направления,
популяризировать научные достижения, саму
науку, бороться с лженаукой и шарлатанами
от науки. Осуществлять связь сообщества
ученых с властью и бизнесом.
Финансирование
же прикладных исследований, а точнее
исследований, ориентированных на конечный
инновационный продукт (новый прибор, новую
технологию, новый материал), должно
обеспечиваться бизнесом. Тоже через фонды,
но наполняемые бизнесом, и, причем, в
обязательном законодательном порядке.
Бизнес должен быть обязан вносить деньги в
научное и технологическое развитие своей
страны. В части расходования средств все
должно быть здесь аналогично, за
исключением того, что экспертами здесь
должны стать сами бизнесмены и
предприниматели, выделяющие деньги фондам,
или ученые, нанятые ими специально для
оценки того или иного проекта. Не
обязательно такой фонд должен тратить те
или иные средства в тот или иной год. Нет
привлекательных проектов – деньги
остаются у фонда. Появился проект,
заинтересован в нем бизнес – пожалуйста,
получите.
Возможен
ли такой путь развития науки в современной
России? Не уверены… Но только он может дать
романтикам и талантам в нынешних условиях
последний шанс, освободить их от тисков
управленчества и зависимости от бюджетных
секвестров. Молодая российская наука пока
втиснута в клетку. Удастся ли ей вырваться
на свободу?
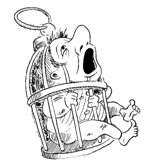
Снег, зима, тишина
перекрестка.
В эпилоге текущего дня
За сюжетом вчерашней радости
Безнадежно гоняюсь я.
Теплота твоих губ
расплывается.
Все зима отняла в этот день.
И не может замерзшая память
Отогреть твою зябкую тень.
Безнадежность не ищет помощи.
Я стою на дуге моста.
И слова, с губ сорвавшись,
падают,
А внизу под мостом пустота….
С.А.Евдокимов.
Назад в "Наше творчество"... На главную страницу...
.
.